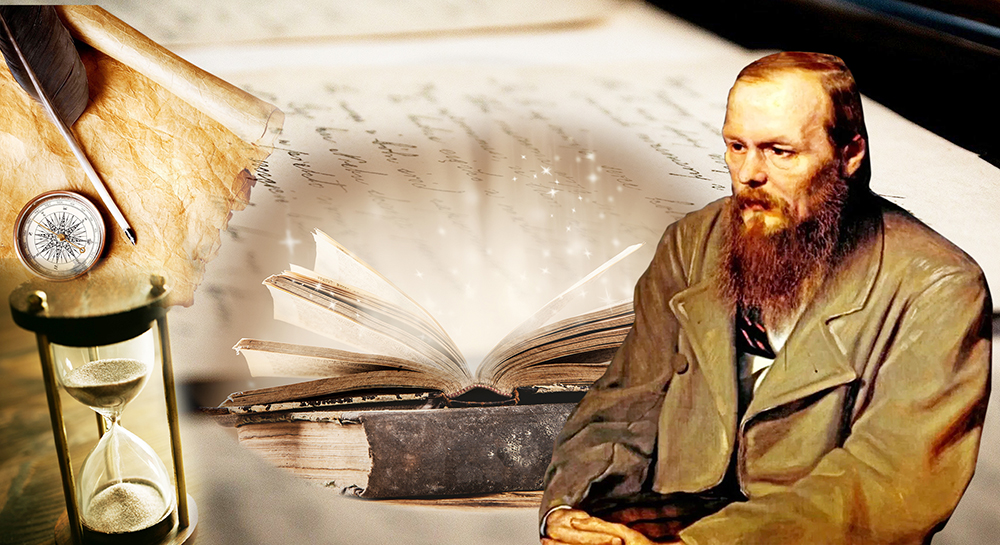В ХVIII – ХІХ веках Оттоманская империя вошла в полосу системного социально-экономического, политического и культурного кризиса. Новым вызовам времени султанские власти и их окружение, озабоченные больше всего собственными интересами, нежели государственными и общественными, отвечали вяло, косно настолько, что у современников складывалось впечатление, как будто Турция застряла в болоте прошлого, что страна обречена: «не обладает свойством развития и дальнейшего прогресса». Страну спасало то, что она едва балансировала между крупнейшими державами Западной Европы и Россией, которые, естественно, исходили из собственных интересов. Во второй половине ХІХ века процессы распада стали настолько очевидными, что европейские политики стали называть Турцию не иначе, как «больным человеком Европы». Несмотря на одержанную «пиррово победу», в коалиции с Англией и Францией в Крымской кампании против России Турция все больше ослабевала. Внутренний кризис страны настолько усугубился, что на международной повестке дня стоял вопрос о расчленении ее территории. Так в европейской международной жизни возник «восточный вопрос».
Русское общество связывало в те времена данный вопрос, прежде всего, с благополучным решением «славянского вопроса», вернее южнославянского. Активно подключились к обсуждению возникшего «исторического шанса» у братских славянских народов и представители русской литературы ХІХ века, среди которых, на наш взгляд, особый интерес вызывает позиция великого русского писателя Ф.М.Достоевского. Исторические взгляды его редко становятся предметом специального исследования, тогда как многие русские классики в этом отношении не обойдены вниманием [1].
Как центральную мысль, сразу же отметим, что исторической концепции Ф.Достоевского характерны, прежде всего, православно-религиозный взгляд на всемирную, в том числе, русскую историю. Он полагал, что католическая идея в лице Франции, которая «потеряла религию», погрязла «в материализме», дискредитировала себя, впав в бездуховность, и что по той самой причине, выражаясь по-современному, «коллективный запад» не может возглавить христианский мир. Эту роль Ф.Достоевский отводит России – «величайшие из величайших достижений, уже созданных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не только России, не общеславянству только, но и всечеловечеству» [2,124]. В этом ключе писатель рассматривает и восточный вопрос: «…восточный вопрос (то есть славянский вместе) вовсе не славянофилами выдуман, да и никем не выдуман, а сам родился раньше славянофилов, раньше нас, раньше даже Петра Великого и русской империи. Родился он при первом сплочении великорусского племени в единое русское государство, то есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть исконная идея московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени… Само собою для этой же цели Константинополь – рано ли, поздно ли, должен быть наш..» [3, 371, 140]. Предвидя возражения оппонентов, Достоевский призывает верить России, что это нравственное оправдание захвата Турецкой столицы: «Да, Золотой Рог и Константинополь – все это будет наше, не для захвата и не для насилия, отвечу я. И, во первых, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то время действительно близко, все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело еще время» [4, 140].
Характерно, что Турцию как политическую преграду на этом пути Достоевский в расчет не берет, ибо «в Турции нет и не может быть правильного и здорового национального организма, мало того, – что и организма-то, может быть, уже не осталось никакого, – до того он расшатан, заражен и сгнил; что турки – азиатская орда, а не правильное государство» [3, 366]. Достоевский не верит в будущее Турции как европейского государственного организма, в ее экономическую и политическую самостоятельность, при этом позволяя себе уничижительное ее определение как «государства слизняков», «разорителей и умертвителей собственной страны». Будем надеяться, что столь жесткая характеристика тогдашнего турецкого социума не должна задевать национальное чувство современных турков, ибо те были зеркальным отражением жалкого состояния Оттоманской империи, правители которой веками не нашли в себе ни силы, ни воли модернизировать турецкое общество, тогда как в далекой Японии на это хватило всего несколько десятилетий.
В отличие от Достоевского, руководствовавшегося православно-религиозными догмами, более прагматичные европейцы из реального политического измерения бытия, были не столь категоричны в оценке будущности Турции, обнаруживая в недрах ее общества тенденции к зарождению «турецкой нации», «организма… имеющего большую силу», «свойства развития и дальнейшего прогресса», логическим завершением которой станет переформатирование страны из султаната в республику во главе с Ататюрком в начале ХХ века.
Однако вернемся к «восточному вопросу» в видении Достоевского. Одержимый православной идеей – «Москва – третий Рим, четвертому Риму не бывать» – писатель утверждает «Москва еще третьим Римом не была, а между тем, должно же исполниться пророчество, потому что четвертого Рима не будет, а без Рима мир не обойдется» [5, 104]. В освобождении южных славян от турецкого ига Россией он видит важнейший шаг в воплощении русской идеи. «Не может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала она до сих пор неуклонно. Эта идея есть, между прочим, и всеединение славян; но воссоединение это – не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству, – пишет он, задавая риторический вопрос – да, и когда, часто ли Россия действовала в политике из прямой своей выгоды?» [6, 137]. В этом направлении развивая свою мысль, Достоевкий уточняет: «И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий, собраться с духом и, ощутив свою новую силу, принести и свою лепту, в сокровищницу духа человеческого, сказать и свое новое слово в цивилизации» [5, 140].
Достоевский видит в решении восточного, вернее, южнославянского вопроса в пользу России – разрешение еще не менее важного вопроса векового противостояния «коллективного запада» с Россией. «В восточный вопрос – заключаются, и может быть себе неведомо, и все остальные политические вопросы, недоумения и предрассудки Европы, – замечает он. – Одним словом, наступило бы нечто очень новое, а для России так совсем другой фазис, или слишком ясно уж теперь, что лишь с окончательным разрешением этого вопроса Россия могла бы наконец поладить с Европой в первый раз в своей жизни и наконец-то стать ей понятной» [7, 178].
«Но Европа не верит этому, не верит ни благородству России, ни ее бескорыстию, – отчаивается он – …не будь «бескорыстие» – дело мигом стало бы в десять раз проще и понятнее для Европы, а с бескорыстием – тьма, неизвестность, загадка, тайна» [7, 178,179]. Достоевский неуклонно призывает верить в честное слово России и русскому народу. – «Вопрос ли это? Для всякого русского это не может и не должно составлять вопроса. Россия поступит честно – вот и весь ответ на вопрос» [7, 136]. Однако верит ли, в свою очередь, Достоевский «либеральной», «***довской», зависимой только «от бирж своих буржуазной Европе»? Не будем вдаваться в подробности, но самому Достоевскому характерны предвзятость, более того, высмеивание и глубокое недоверие планам «мирного регулирования» восточного вопроса, на наш взгляд, далекого от совершенства – предложенного Западом, прежде всего, Великобританией. По этому «регулированию» предусматривалось уравнение прав славянских народов: болгар, босняков и жителей Герцоговины с коренными жителями Османской империи, предоставление этим народам административной автономии и т. д. Достоевский же был уверен, что ни Россия, «ни единый турок», даже «ни один единственный человек» не согласился бы на это.
Не менее бурные возражения вызывает у Достоевского «старинное, дипломатическое мнение», предусматривающее предоставление Константинополю статуса «вольного международного города», который наблюдался бы «несколькими наиболее могучими европейскими державами». То есть будущее города должно было держаться на равновесии политических сил, в частности, между «могучими европейскими державами». Достоевский в этом видит всего лишь дипломатическую уловку Запада. – «Никогда не будет такого момента в Европе, такого политического состояния вещей, чтобы Константинополь не был чьим-нибудь. Вот это аксиома, и мне кажется – невозможно, чтобы было иначе», [8, 186] – пишет он, убеждая нас в неминуемой принадлежности города в будущем к России. – «Неминуемость нравственного приобщения славян к России, рано ли, поздно ли, это так сказать, естественность, законность этого ужасного для Европы факта и составляет кошмар ее, ее главные опасения в будущем… С ее стороны только сила и комбинации, а с нашей стороны – закон природы, естественность, родственность, правда…», [9, 187] – заключает Достоевский.
Русско-турецкая война 1877-1878 годов, сопровождавшаяся освободительной войной южных славян против турок, вызвав небывалый прежде патриотический подъем в стране, консолидировало русское общество как никогда. Но как относились к русско-турецкой военной кампании сами же южно-славяне, и соответствовала ли она ожиданиям Ф.Достоевского? Как распорядилась ими история? Тут писатель предусмотрителен, предвидя эволюции понятий, ментальных трансформаций, и всю хрупкость политического состояния внутри новообразованных южнославянских государств после приобретения независимости. Достоевский замечает: «…в части славянской интеллигенции, в некоторых высших представителях и предводителях славян, существуют действительно затаенная недоверчивость к целям России, а потому враждебность к России и русским» [9, 188].
Другую, не менее сложную задачу, писатель видит в том, что «между балканскими славянами несомненная и страшная рознь. Да, вечная рознь между славянами» [10, 264]. Все это слишком неопределенно и необъяснимо для Достоевского – «…не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными… такие вещи на свете иначе и происходить не могут», [11, 373] – заключает он. По его мнению, Россия должна быть готовой к такому повороту событий: «России надо серьезно подготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и, таким образом, должны будут пережить целый и длинный период, прежде чем постигнут хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества» [11, 375].
В заключении хочется отметить, что заманчивая идея о «всеславянском единстве» и «преобретении Константинополя», а заодно побережья Мраморного моря и выход в Средиземноморье занимала не только великого русского писателя, она была популярна среди русской интеллигенции, в высших политических и военных кругах Царской России. Допускаю, что одна из причин столь ошибочно-спешного вступления страны в первую «вселенскую войну», обернувшейся впоследствии катастрофой для России, было наличие такого настроения и «исторического поползновения» в обществе. Во второй половине ХХ века, казалось, наконец-то, сбылась «мечта Достоевского» в новой конфигурации, теперь уже в лице Советского Союза, объединившего «под крылом России» многие славянские народы в рамках «социалистической системы». И обнаружилось, что «страшная, вечная рознь между славянами» никуда не делась, не говоря уже о прочих союзных республиках СССР.
Мне не импонирует известное выражение о том, что «история не терпит сослагательного наклонения». Но все-таки допустим, что выступи Турция во второй мировой войне на стороне Германии – допустили бы союзники потом расчленения Турции? Не исключено. Но вот вопрос: достался бы Стамбул Сталину? Вряд ли. Скорее, подобное развитие событий вызвало бы уже новую, более страшную войну между вчерашними союзниками, которую истощенный людскими потерями, разрушенной экономикой Советский Союз едва ли выдержал бы.
Важность изучения позиции Достоевского по восточному вопросу в том, что несмотря на утомительные выяснения отношений между нынешними славянскими народами, несмотря на противоречивость, порою спорность, она раскрывает нам глубинные пласты непонимания и взаимного недоверия между коллективным Западом и Россией, которую призваны преодолеть не только нынешние политики.
Тастанбек САТБАЙ, доктор исторических наук,
доцент Кызылординского университета имени Коркыта ата